Лучшие вопросы
Таймлайн
Чат
Перспективы
Балто-славянские языки
гипотетическая группа языков; впоследствии разделились на балтийские и славянские языки Из Википедии, свободной энциклопедии
Remove ads
Балто-славя́нские языки́ — ветвь языков, из которой, предположительно, выделились балтийская и славянская группы индоевропейских языков.
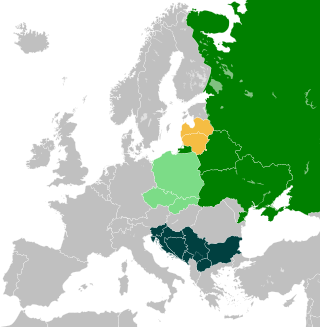
Remove ads
Точки зрения
Суммиров вкратце
Перспектива
Основные позиции

Существуют различные подходы к вопросу о балто-славянских отношениях[2][3][4][5][6]. Из них можно выделить четыре конкурирующих[7]:
1. Первый, самый старый, приверженцы которого известны в научной литературе, как сторонники «балто-славянского единства», восходит ещё к А. Шлейхеру, который полагал, что до разделения балтийского и славянского языков существовал общий балто-славянский праязык[8]. Сторонниками этого подхода являются такие учёные, как В. Георгиев, Я. Отрембский, Вяч. Вс. Иванов, археолог П. Н. Третьяков[9].
2. Вторую точку зрения предложил А. Мейе, рассматривая прабалтийский и праславянский как два схожих между собой индоевропейских языка, которые, выделившись из праиндоевропейского, далее, независимо друг от друга, произвели параллельные, но близкие процессы в своём развитии[10]. Данную точку зрения поддерживали А. Зенн и В. Мажюлис[11].
3. В свою очередь, Я. Эндзелин сформулировал третью позицию, которая состоит в том, что прабалтийский и праславянский прошли сначала этап независимого развития, а затем сблизились, что привело их к длительному совместному проживанию в течение определённого времени, представление о чём в соответствующей литературе известно под несколькими названиями — «балто-славянская эпоха, сообщность, изоглоссный ареал»[12][13][14]. Сторонниками этой позиции были Т. Лер-Сплавинский, С. Б. Бернштейн, Б. В. Горнунг, К. Мошинский[11].
4. Наконец, сторонники четвёртого подхода, как, например, В. Н. Топоров утверждают, что прабалтийская модель является прототипом для праславянского языка, который образовался из периферийных балтийских диалектов[15][16]. С этой точки зрения, балто-славянские делятся скорее не на балтийскую и славянскую группы, а на центрально-балтийскую (позже восточно-балтийскую) и периферийно-балтийскую, включающую, как минимум, западно-балтийскую, восточно-периферийную и славянскую подгруппы[17].
Хронология

Один из сторонников теории балто-славянского единства, Т. Лер-Сплавинский определяет период существования общности в 500—600 лет, привязывая начало существования общности (и выделение её из праиндоевропейского континуума) к эпохе экспансии культуры шнуровой керамики, в которую входили прабалто-славяне, а конец к эпохе экспансии лужицкой культуры[18].
Сторонник теории контакта, С. Б. Бернштейн датирует время балто-славянского контакта серединой 2-го тысячелетия до н. э. — серединой 1-го тысячелетия до н. э.[19]
Пользуясь методом глоттохронологии, С. А. Старостин датировал распад балто-славянского единства около 1210 г. до н. э.[20] В свою очередь, П. Новотна и В. Блажек, используя метод Старостина с определёнными поправками, получили датировку распада в 1400 лет до н. э.[21] По данным А. В. Дыбо балто-славянское древо, построенное для совместной работы с генетиками, датирует время распада пра-балто-славянского единства — 1400—1300 гг. до н. э.[22]
Исторический фон
В XVIII и даже в начале XIX века господствовала точка зрения, также представленная М. Ломоносовым в России, что балтийские языки произошли от славянских[23]. С утверждением сравнительно-исторического метода в XIX веке, Ф. Бопп выдвинул представление о генеалогической (генетической) близости между балто-славянскими и индоиранскими языками, а Расмус Раск и А. Шлейхер о балто-славяно-германской близости, в рамках которой А. Шлейхер постулировал выделение впоследствии двух отдельных групп — собственно балто-славянской и германской[10]. В дальнейшем, позиция Шлейхера о существовании балто-славянского праязыка была с одной стороны поддержана такими исследователями, как К. Бругман и Ф. Фортунатов, так и подвергнута критике А. Л. Погодиным и Бодуэном де Куртенэ[10][24][25][26]. В частности, А. Л. Погодин в своём исследовании «Следы корней-основ в славянских языках» (Варшава, 1903) пришёл к выводу, что балто-славянский праязык представляет собой учёную фикцию, а К. Бругман в своём «Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen» (Straßburg, 1902—1904) обосновывал существование балто-славянского праязыка на основании восьми признаков[24][25][Прим. 1]. Из числа российских учёных теория о балто-славянском праязыке была полностью принята В. Поржезинским и А. Шахматовым, последний из которых также дополнил аргументацию Бругмана данными акцентологии[27]. В 1908 году А. Мейе, собрав все известные на тот период факты в своей книге «Les dialectes indo-europeens» (Paris, 1908), предложил концепцию о независимом и параллельном развитии прабалтийского и праславянского языков, а также выдвинул собственные контр-аргументы относительно восьми признаков Бругмана[28][29][30][Прим. 2].
Возникла научная дискуссия[28]. Крупным событием в изучении балто-славянской проблемы явилась монография Я. Эндзелина «Славяно-балтийские этюды» (Харьков, 1911)[14]. Её автор, будучи первоначально сторонником существования балто-славянского праязыка, тем не менее, вопреки собственным взглядам в своём исследовании пришёл к промежуточной позиции между точкой зрения Мейе и Бругмана, высказав мнение, значительно отличавшееся как от теории параллельного и независимого развития прабалтийского и праславянского языков, так и от теории балто-славянского праязыка[12][14][31]. По мнению Эндзелина, уже в праиндоевропейскую эпоху праславянский и прабалтийский диалекты обладали значительными отличиями[32]. После распада индоевропейской общности и выделения индо-ариев, славяне, соседствовавшие с ними и балтами, через некоторое время сблизились с последними, пережив вместе с балтами эпоху совместного развития. Таким образом, имеет смысл говорить о периоде длительной совместной жизни, но никак не о существовании балто-славянского праязыка[12][33].
Общая оценка

В отношении гипотез, связанных с балто-славянской проблемой, отмечается их определённая удалённость от компаративистского метода и ориентированность на, скорее, собственные теоретические построения. Среди основных проблем такого рода концепций и методологических замечаний в отношении самого вопроса о балто-славянском родстве отмечается следующее[34]:
- Необходимо оперировать при доказательстве генетического родства наиболее надёжным критерием, а именно — фонологическими инновациями, точнее исчезновением «фонологических контрастов в ряде этимологически связанных единиц», поскольку только такого рода процессы необратимы и лишены морфологических примесей.
- Среди гипотез, настаивающих на генетическом родстве соответствующих языков, отсутствуют такие, в которых были бы установлены совместные инновации при одновременной абсолютной и относительной хронологизации такого рода изоглосс.
- Необходимо учитывать, что структурным параллелям, в частности словообразовательной морфологии, где балтийский и славянский имеют больше всего общих черт, в рамках компаративистского метода «следует приписывать меньшую доказательную силу».
- Среди гипотез, настаивающих на генетическом родстве соответствующих языков, отсутствуют такие, в которых уточняется, «какая доля среди конвергентных черт приходилась на следствия совместного наследия, а какая — на результаты языковых контактов».
Remove ads
Аргументы сторон и частные наблюдения
Суммиров вкратце
Перспектива
Фонетика и фонология
Аргументы сторонников
О. Семереньи отметил четырнадцать пунктов, которые, по его мнению, не могут быть следствием случая или результатом параллельного развития, и которые являются, как он считает, доказательством существования единого балто-славянского языка. Там, где не указано обратное, аргументы сторонников генетического родства балтийских и славянских языков, в данном случае — на основании фонетических, фонологических и морфонологических (морфофонологических) признаков, даются по Антанасу Климасу[35]:
- Фонологическая палатализация (описанная Е. Куриловичем в 1956 году);
- Единообразное изменение праи.-е. слоговых сонорных;
- Закон «руки»;
- Возможность реконструировать в древнепрусском фонологическую (вокализма и консонантизма) систему, не только аналогичную праславянской, но и идентичную праславянской до завершения делабиализации, что соответствует тому представлению о праславянском как ответвлении западно-балтийского[36];
- Палатализация задненёбных в славянском теоретически может иметь параллели в балтийском и соответственно быть балто-славянским явлением[37];
- Удлинение слогов перед праи.-е. смычными звонкими непридыхательными (закон Винтера)[38].
Ю. Тамбовцев в своей статье, посвящённой статистическому исследованию фоно-типологического расстояния между балтийскими и некоторыми славянскими языками, в которой анализируется типология строения звуковых цепочек на основании частоты встречаемости восьми групп согласных (губных, переднеязычных, среднеязычных, заднеязычных, сонорных, шумных смычных, шумных щелевых, шумных звонких), а также гласных, что позволяет установить близость между языками на фонетическом уровне, приводит следующие количественные характеристики по величине критерия хи-квадрат между сравниваемыми языками[39]:
| Литовский | Латышский | Древнерусский | Русский | Украинский | Словенский | Белорусский | Македонский | Чешский | Болгарский | Словацкий | Сербско-хорватский | Сербо-лужицкий | Польский | |
| Литовский | ― | 6,45 | 2,84 | 6,07 | 3,64 | 7,46 | 1,92 | 17,11 | 6,14 | 19,64 | 12,99 | 25,66 | 18,22 | 24,62 |
| Латышский | 6,45 | ― | 2,47 | 3,65 | 7,50 | 8,83 | 10,68 | 12,34 | 14,38 | 15,89 | 16,31 | 19,97 | 24,46 | 39,66 |
| Древнерусский | 2,84 | 2,47 | ― | 4,71 | 5,20 | 8,60 | 6,42 | 13,92 | 10,29 | 11,08 | 14,20 | 15,31 | 20,16 | 30,54 |
Из этого, как указывает автор работы, получается, что к древнерусскому по звучанию ближе всего литовский и латышский, но не современный русский, украинский или белорусский. Причём, как отмечает Ю. Тамбовцев, фоно-типологическое расстояние между литовским и латышским намного больше, чем между литовским и древнерусским, а более всего близок к древнерусскому латышский, что, как полагает автор работы, может говорить о существовании балто-славянской группы в индоевропейской семье языков. Из числа других славянских языков, как указывает Ю. Тамбовцев, литовский язык менее всего похож по звучанию на сербско-хорватский и латышский менее всего близок к польскому. В свою очередь, близость литовского к белорусскому, по мнению автора, можно объяснить не только балто-славянским единством в прошлом, но и интенсивными контактами между обоими языками в составе Великого княжества Литовского[40].
Критика
В свою очередь, литовский лингвист Антанас Климас[лит.] в своей статье по взаимоотношениям славянского и балтийского выступил с критикой доказательств Семереньи. Там, где не указано обратное, критика аргументов сторонников генетического родства балтийских и славянских языков, в данном случае — на основании фонетических, фонологических и морфонологических (морфофонологических) признаков, даётся по Антанасу Климасу[35]:
- Фонологическая палатализация (описанная Е. Куриловичем в 1956 году) произошла только в латышском. В литовском палатализация имела иной характер. Соответственно, в прабалтийском не было общей палатализации;
- Единообразное изменение праи.-е. слоговых сонорных произошло также в германском и не является исключительно балто-славянской инновацией;
- Закон «руки» не может быть принят в качестве исключительной балто-славянской инновации, поскольку действовал также в индо-иранском;
- В то же время вокалическая система прагерманского почти идентична с системой гласных древнепрусского[35]. Рассмотрению же праславянского в качестве диалекта западно-балтийского (древнепрусского) препятствует тот факт, что рефлексы закона «руки» слились с сатемными палатальными в литовском, латышском и древнепрусском, что привело к «укреплению» -k- и -g- — процессы чего не только отсутствуют, но и имеют обратные результаты в славянском, албанском и армянском[41];
- Палатальные задненёбные в прабалтийском и праславянском проделали разное развитие пра-инд.-евр. k̑, а попытка найти здесь «общую инновацию системы согласных» представляет собой анахронизм[42];
- Существует интерпретация закона Винтера не как фонетического закона, а лишь тенденции к удлинению гласных, реализовывавшейся отдельно в славянском и балтийском[43][44]
Частные наблюдения
Вяч. Вс. Иванов полагает, что для балто-славяно-германского был общий тип отражения слоговых сонантов[45]. Как считает В. Георгиев, близкое балто-славянским изменение индоевропейских сонантных плавных и носовых встречается в тохарском, а также в индо-иранском, где, в частности, древнеиндийский показывает наличие ir и ur[46]. В свою очередь, В. Порциг отмечает, что рефлексы слоговых сонантов не могут быть использованы для классификации индоевропейских языков, скорее их распределение позволяет установить контактные связи между ними[47].
По мнению Л. Мошинского, изменение праи.-е. слоговых сонорных, хотя и является общим балто-славянским процессом и может рассматриваться для обоснования тезиса о существовании балто-славянской праязыковой общности, вместе с тем, уже в балто-славянскую эпоху в праславянском, на что указывает ряд данных, происходила отличная от прабалтийского реализации этого процесса, связанная с деятельностью закона открытого слога в протославянских диалектах балто-славянского языка[48]. Т. Милевский со своей стороны, отрицая существование балто-славянской праязыковой общности, на основании данной специфики праславянского выводит его сонанты непосредственно из праи.-е. слоговых сонорных[49][50].
Р. Сукач, ссылаясь на Мартина Хульда, указывает, что закон Винтера действовал не только в балтийском и славянском, но также в албанском[51].
Аргументы противников
Там, где не указано обратное, аргументы противников существования генетического родства балтийских и славянских языков, в данном случае — на основании фонетических, фонологических и морфонологических (морфофонологических) признаков даются по Антанасу Климасу[52]:
- пра-инд.-евр. /*ă/, /*ŏ/ в славянских языках совпали в /*ŏ/, но в балтийских — в /*ă/; различие пра-инд.-евр. /*ā/ и /*ō/ сохраняется в балтийских, но исчезает в славянских;
- Передвижение балтийских рядов чередования гласных в противоположность консервативному сохранению праи.-е. рядов аблаута в праславянском[42];
- В праславянском действует закон открытого слога, который отсутствует в балтийских (включая и прабалтийский) языках.
В свою очередь, А. В. Дубасова в своей работе о становления консонантных систем в балтийском и славянских языках указывает, что в обоих языках имели место такие процессы, как переход праи.-е. звонких придыхательных в звонкие, йотация, палатализация, затем − ассимиляция, диссимиляция, метатеза и выпадение согласных и ряд других (см. ниже). По её мнению, такой сходный перечень изменений может свидетельствовать об особых отношениях между славянским и балтийским, однако прежде чем делать выводы о качественной стороне таких отношений, необходимо рассмотреть данные процессы с точки зрения их причин, последствий и протекания[53].
Так, в области йотации, А. В. Дубасова указывает на то, что имеются существенные отличия между славянской и балтийской йотацией, что давно отмечали исследователи. При этом, даже среди самих балтийских языков йотация привела к различным результатам, из чего, как ею утверждается, обычно делали вывод, что данный процесс произошёл после распада прабалтийского на отдельные балтийские языки и это при том, как подчёркивает А. В. Дубасова, что йотация обнаруживается на праславянском уровне[53]. Что касается палатализации, то она, как отмечает А. В. Дубасова, представляет собой в типологическом плане тривиальное фонетическое изменение, наличие которого в славянском и балтийском не может говорить о каких-либо генетических связях, тем более что имеются существенные отличия балтийской палатализации от славянской[54]. В своей отдельной статье, посвящённой данному фонетическому процессу, А. В. Дубасова начинает свою работу с констатации имеющихся трудностей среди специалистов в реконструкции фонологической системы прабалтийского языка, обусловленных спецификой материала древнепрусского языка, в отношении которого среди разных исследователей имеются часто не согласующиеся между собой позиции[55]. Далее, указывая на близость между латышской и славянской палатализацией, А. В. Дубасова в то же время показывает, что реализация этого процесса, условия и особенности, в частности изменения или наоборот неизменение согласных перед теми или иными гласными, были различными в обоих языках[56]. В своей работе о становлении консонантных систем в балтийских и славянских языках, в отношении ассимиляция по звонкости-глухости, А. В. Дубасова утверждает, что эта ассимиляция была уже в праславянском, а её причиной было выпадение сверхкратких гласных, но при этом в прабалтийском сверхкраткие гласные не реконструируются, что, как она считает, говорит о том, что балтийская ассимиляция имеет другое происхождение[57]. В случае утраты конечных согласных, она указывает, что в праславянском этот процесс был следствием всеобщей тенденции, в то время как, в прабалтийском утрата конечных согласных вообще не наблюдается[58]. Относительно метатезы, А. В. Дубасова замечает, что в прабалтийском это было самостоятельное явление, не связанное, в отличие от праславянского с открытием слога[59]. Что касается протезы, эпентезы (*s-mobile) и внедрения согласных, то в первом случае это явление проявляется намного интенсивнее в славянском, чем в балтийских языках; во-втором случае, *s-mobile в славянском во многих случаях утратился, а в балтийских языках его примеров достаточно много до сих пор; в свою очередь, появление этимологически неоправданных k, g перед свистящими или шипящими (внедрение согласных) не получило распространение в славянском, в отличие от балтийских языков[59]. В отношении геминации, А. В. Дубасова отмечает, что среди специалистов указываются две позиции — с одной стороны, рассмотрение этого явления в качестве независимого процесса, с другой, как генетически общего[60]. В отношении системы согласных, А. В. Дубасова, ссылаясь на специалистов, хотя и указывая, что единого мнения на этот счёт нет, утверждает о различии прабалтийского и праславянского консонантных систем в области ряда альвеолярных согласных и ряда зубных согласных[60]. Все это, по её мнению, позволяет заключить, что:
«На примере представленных явлений можно видеть, что славянские и балтийские языки „отдавали предпочтение“ разным способам преобразования, с разной степенью интенсивности использовали то или иное средство; все изменения, несмотря на их схожесть в балтийских и славянских языках, оказываются самостоятельными процессами, с разными причинами и с разными последствиями. Поэтому логичнее говорить не о „расхождении“, но об изначально различном развитии − без постулирования общего балто-славянского праязыка.»
— [61]
В своей работе об общем и различном в развитии праславянской и прабалтийской фонологических систем от праиндоевропейской, А. В. Дубасова рассматривает некоторые фонетические процессов, общие для прабалтийского и праславянского языков[62]. Так, в отношении ассибиляция индоевропейских нёбнопалатальных, ею указывается, что не имеется общепринятого мнения, согласно которому развитие праи.-е. нёбнопалатальных в славянском и балтийском было бы идентично, но если придерживаться, как она утверждает, традиционных реконструкций (пра-инд.-евр. *k̂, *ĝ, *ĝh > прабалт. *š’, *ž’, праслав. *s’, *z’), то судьба праи.-е. палатальных свидетельствует скорее об их независимом развитии в соответствующих языках[63]. В свою очередь, в статье, посвящённой смешению нёбнопалатальных и дентальных в балтийских и славянских языках, А. В. Дубасова утверждает, что в отличие от прабалтийского в праславянском данное смешение не оказало значимого воздействия на развитие консонантизма и поэтому, как она полагает, можно предполагать, что в праславянском это было в действительности не самостоятельное явление, но возникшее под влиянием балтийских диалектов[64].
Просодия и акцентология
Аргументы сторонников
По мнению Е. Куриловича, представителя классической славянской акцентологии[Прим. 3], балтийская и славянская интонационные системы представляют собой новообразования, не только общие по своему возникновению и развитию, но и способствовавшие появлению многочисленных общих черт этих языков в морфологическом использование интонаций[65]. Как особенно подчёркивается Е. Куриловичем, данная просодическая эволюция в балтийских и славянских языках затронула центральные черты языковой системы и привела как к изменениям фонетического облика этих языков, так и образованию параллельных, а также, в некоторых случаях, идентичных сдвигов в их морфологическом строе[66]. Так, в частности, по его мнению, балто-славянским наследством в области морфологической роли интонации можно считать[67]:
- Исчезновение в группе первичных слов разницы между праи.-е. баритонами и окситонами;
- Возникновение интонаций в группе производных слов, что обусловило формирование нескольких интонационно-акцентуационных парадигм;
- Интонационно-акцентуационную тройственность парадигм в склонении и в спряжении.
Все это, по мнению Е. Куриловича, представляет собой сильнейшие доводы в пользу существования балто-славянского единства в прошлом[68].
В свою очередь, ведущий член московской акцентологической школы — В. А. Дыбо, представитель «пост-Иллич-Свитычевской» славянской акцентологии[Прим. 4], в одной из своих работ заключает, что славянские и балтийские языки являются потомками балто-славянского праязыка, поскольку праславянский и прабалтийский имели фактически одну акцентную систему, которую, по его мнению, невозможно заимствовать. Им подчёркивается, что закономерности морфонологических (морфофонологических) феноменов, как правило, не ясны для говорящего и даже при контактах близкородственных диалектов их морфонологические особенности лишь устраняются, но не заимствуются[69]. В своей статье по исследованиям акцентных типов производных в балто-славянском праязыке В. А. Дыбо утверждает, что реконструкция систем порождения акцентных типов в праславянском и пралитовском языках привела к восстановлению двух праязыковых систем, которые, в одних случаях, совпадают в словообразовательном и в акцентологическом отношении, а в других представляют собой разные части или «обломки» постулируемой им «фактически одной системы», и которые, по его мнению, могут быть объединены в ходе дальнейшей реконструкции[70].
Наиболее полно проблема взаимоотношения балтийского и славянского языков рассмотрена В. А. Дыбо в его работе, посвящённой балтийской сравнительно-исторической и литовской исторической акцентологии[38]. Свою работу он начинает с критики позиции С. Б. Бернштейна и заключает, что трудно согласиться с его утверждением о вторичном сближении славянского и балтийского языков, когда они вместе сохранили:
- различие между простыми звонкими смычными и звонкими придыхательными;
- различие между краткими и долгими дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями, которое было потеряно остальными индоевропейскими языками;
- так называемые «бецценбергеровские сочетания», непосредственные отражения которых обнаруживаются в основном лишь в древнеиндийском и древнегреческом;
- регистровые тона, отразившиеся в морфонологических явлениях, и которые были утрачены остальными индоевропейскими языками.
При этом наблюдается общий комплекс акцентологических инноваций, таких как:
- создание тождественной системы акцентных парадигм с тождественной системой порождения акцентных типов производных;
- оттяжка конечного ударения на первично долгие монофтонги и дифтонги (закон Хирта);
- возникновение оппозиции «акут-циркумфлекс»;
- метатония «акут → циркумфлекс перед доминантными суффиксами»;
- закон Фортунатова — де Соссюра.
В. А. Дыбо отмечает, что перечисленное заставляет отказаться от предлагаемого С. Б. Бернштейном термина «сообщность» и принять в качестве рабочей гипотезы существование балто-славянского праязыка, поскольку трудно предполагать, как он считает, что вся масса данных общих резерваций и инноваций могла возникнуть между двумя контактирующими языками, среди носителей которых отсутствовало взаимопонимание и контакт между которыми якобы наступил значительно позже индоевропейской эпохи[38].
Критика
Методология В. А. Дыбо в его работе «Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском» (М.: Наука, 1981) и всей московской акцентологической школы, основываемая на принимаемой ими и многими другими исследователями «парадигматической акцентологии», подверглась фундаментальной критике со стороны Ю. С. Степанова, который упрекает В. А. Дыбо в гипостазировании роли корневой морфемы вслед за Соссюром, в то время как в действительности «связь между акцентным типом производного слова и интонацией корневой морфемы определяется словообразовательным типом, словообразовательной моделью слова как целого и т. п.»[71][72].
Частные наблюдения
В отношении распределения и использования интонаций, Е. Куриловичем отмечалось, что морфологическая структура балтийского и славянского языков была тождественной до возникновения общих интонаций[73]. Ю. В. Шевелёв указывает на то, что балтославянская оппозиция или противопоставление акута циркумфлексу и аналогичное явление в греческом возникли независимо друг от друга, уже после распада праиндоевропейского языка[74]. Х. Станг полагал, что славянский акут, в отличие от литовского, сохранил балто-славянскую природу[75][76].
По мнению Л. Мошинского, представителя классической славянской акцентологии, балто-славянский унаследовал от праиндоевропейского такие два независимых просодических признака, как силу и долготу, а третий признак — тон, в свою очередь, представляет собой общую балто-славянскую инновацию. При этом, в «раннепраславянском» (термин Л. Мошинского), той совокупности определённых диалектов балто-славянского из которых развился праславянский, к воспринятой от праиндоевропейского различительной долготы присоединился дополнительный признак — изменение качества гласного[77].
В. А. Дыбо в ряде своих работ отстаивает тезис, что балто-славянская акцентологическая система является крайне архаичной и в целом недалеко отошедшей от праиндоевропейского состояния, в то время как остальные индоевропейские языки или потеряли, или коренным образом изменили свои акцентные системы[78][79]. Также, им указывается, что возможно в ряде индоевропейских языков произошли некоторые акцентологические инновации, характерные и для балто-славянского, как например закон Хирта в кельто-италийском и метатония в греческом[80][81]. С. Л. Николаев, представитель московской акцентологической школы, рассматривает метатонию «акут → циркумфлекс перед доминантными суффиксами», как специфический позднепраиндоевропейский феномен, а в отношении закона Хирта указывает, что он имеет типологическую параллель в кельто-италийском[82].
В свою очередь, Т. Пронк в своей статье, посвящённой праиндоевропейской акцентуации, разбирая работы Дыбо и ряда других исследователей по балто-славянской акцентуации, отмечает, что, помимо древнеиндийских, возможно только праславянские интонации, но не балтские, прямо отражают праиндоевропейскую тональную систему[83]. По мнению Т. Пронка, праславянские интонации не являются инновацией и рассмотрение их в таком качестве, часто как балто-славянской инновации, представляется затруднительным[84]. Им также отмечается, что наблюдения Дыбо по размещению акцента в праславянском могут быть лучше объяснены, если рассматривать данное просодическое явление, как происходящие из размещения акцента в праиндоевропейском[85].
Х. Станг и вслед за ним Ф. Кортландт, Р. Дерксен, В. Г. Скляренко и многие другие современные акцентологи отрицают действие закона Фортунатова — де Соссюра в праславянском[86][87][88][89]. В то же время представители московской акцентологической школы (В. А. Дыбо, С. Л. Николаев) в рамках одной из собственных альтернативных реконструкций праславянской акцентологии принимают действие закона Фортунатова — де Соссюра в праславянском[90].
В свою очередь, голландский лингвист Пепейн Хендрикс критикует представителей московской акцентологической школы и конкретно В. А. Дыбо за придание закону Хирта неопределённого статуса в связи с сомнением В. А. Дыбо относительно его применимости к ряду акцентологических процессов в славянском[91]. Кроме того, Т. Г. Хазагеров характеризует закон Хирта как сомнительный[92].
Смежная позиция
Г. Майер, отмечая наличие чистых фонологических инноваций среди диалектов прабалтийского, утверждает, что в отличие от этого, сходства между балтийским и славянским языками имеют контактную природу и основываются на морфолого-синтаксически обусловленных инновациях акцентологического характера[93]. К. Эбелинг, представитель «пост-Иллич-Свитычевской» славянской акцентологии, в своём обзоре хронологии славянских акцентологических процессов, утверждает, что значительная близость между славянской и балтийской акцентуационных систем может быть объяснена «аналогичным, но не идентичным развитием, начиная с того же праи.-е. шаблона»[94].
По мнению В. М. Иллич-Свитыча, хотя сопоставление славянской и балтийской систем акцентуационных парадигм имени приводят к выводу об их идентичности, тем не менее трудно сказать, указывает ли такая общность на существование балто-славянской системы акцентуационных парадигм имени, поскольку подвижность ударения в балтийском и славянском может быть праиндоевропейским архаизмом, а что касается оттяжки конечного ударения (закон Хирта), то это действительно представляет собой инновацию, но встречающуюся также в кельто-италийском[95].
В свою очередь, Томас Оландер, подтверждая значительную близость балтских и славянских языков в своих исследованиях в области акцентологии, тем не менее указывает на то, что такие совместные инновации могут быть интерпретированы по-разному, как в рамках единого балто-славянского праязыка, так и в рамках тесного общения диалектов-предшественников славянского и балтийского языков. При этом он полагает, что методологически допустимо относиться к балто-славянскому праязыку как к простой модели описания общего наследия славянского и балтийского языков, хотя отношения между их диалектами-предшественниками могли быть значительно более сложными[96].
Хеннинг Андерсен считает, что общие черты являются не балто-славянским наследием, а следствием влияния на прабалтский и праславянский языки несохранившихся северо-западных раннеиндоевропейских диалектов[97].
Аргументы противников
Известный советский акцентолог Л. А. Булаховский, представитель классической славянской акцентологии, обсуждая в ряде своих работ вопрос о балто-славянских отношениях, вслед за Н. В. Ван-Вейком полагает, что закон Фортунатова — де Соссюра может быть явлением параллельного развития в обоих языках. Что касается закона Хирта, то, по его мнению, в действительности не имеется надёжных оснований для принятия работы этого закона в славянском, хотя поправка Лер-Сплавинского к закону Хирта, сформулированная для праславянского языка, делает его действие в славянском более вероятным[98][99]. Ряд других сближений акцентологического характера вроде метатонии, как им отмечается, не представляются убедительными. В отношении характера интонаций Л. А. Булаховский утверждает, что «внутри каждой из сопоставляемых языковых групп изменения (вплоть до прямой противоположности) не меньше, чем между ними в целом»[98][100].
Морфология и синтаксис
Аргументы сторонников
Со стороны сторонников генетического родства балтийских и славянских языков, были предложены следующие аргументы на основе морфологических и синтаксических признаков[35]:
- Местоименные прилагательные;
- Переход причастий в тип склонения на -i̯o-;
- Родительный падеж единственного числа тематических основ на -ā(t);
- Способ образования сравнительной степени;
- Косвенный падеж 1 л. ед. ч. men-, 1 л. мн. ч. nōsom;
- Местоимения tos/tā вместо пра-инд.-евр. so/sā;
- Спряжение неправильных атематических глаголов (лит. dúoti, славянское *dati);
- ē/ā в претерите;
- Глаголы с формантом балт. -áuj- / слав. -uj-;
- Творительный предикативный[9].
Критика
В отношении ряда данных аргументов, оппонентами сторонников генетического родства балтийских и славянских языков, были даны следующие критические замечания[35]:
- Относительно аргумента — № 1: формы местоименных прилагательных в славянских и балтийских языках образовались независимо, поскольку *јь в праславянском присоединялся к форме в котором отсутствовало конечное согласное, в отличие от прабалтийского[101];
- Относительно аргументов — № 3, № 4 и № 6: родительный падеж единственного числа тематических основ на -ā(t)-, способ образования сравнительной степени и местоимения tos/tā вместо пра-инд.-евр. so/sā не обнаруживаются во всех балтийских языках. Так, способа образования сравнительной степени нет в латышском, а родительный падеж единственного числа тематических основ на -ā(t)- и местоимения tos/tā вместо пра-инд.-евр. so/sā отсутствуют в прусском. Следовательно, совпадения в этих инновации могут отражать параллельное развитие или языковые заимствования;
- Также относительно аргумента — № 6: данное изменение обнаруживает параллели в германских языках и поэтому не может считаться эксклюзивной балто-славянской инновацией[102].
Аргументы противников
В свою очередь, противниками существования генетического родства балтийских и славянских языков, были указаны те морфологические признаки, которые, с их точки зрения, доказывают отсутствие соответствующей связи между славянским и балтийским языками[52]:
- В балтийских используется суффикс -mo в порядковых числительных, тогда как в славянских используется суффикс -wo (как в индо-иранских и тохарских).
- Суффикс -es, используемый при образовании названий частей тела в хеттском и праславянском, не используется в балтийских языках.
- Славянский перфект *vĕdĕ, восходящий к перфекту пра-инд.-евр. *u̯oi̯da(i̯), представляет собой архаизм без балтийского соответствия[103].
- Славянский императив *јьdi продолжает пра-инд.-евр. *i-dhí, что не известно в балтийском[103].
- Славянский суффикс отглагольных существительных -telь- (близкий к хетт. -talla) не используется в балтийских языках.
- Славянские причастия на -lъ, имеющие соответствующие параллели в армянском и тохарском, не известны балтийским языкам[103].
- Суффикс балтийских глаголов 1 л. ед. ч. наст. в. -mai, в то время как в славянских это не так.
- В балтийских часто используется инфикс -sto-, в то время как в славянских он отсутствует.
- Балтийский суффикс прилагательных -inga не используется в славянских языках.
- Балтийский уменьшительный суффикс -l- не используется в славянских языках.
- В прабалтийском не различались формы ед. ч. и мн. ч. в глаголах 3 л., в то время как в праславянском это различие сохранялось.
- Флексии 3-го л. ед. — мн. ч. в славянском хорошо отражает форманты пра-инд.-евр. -t: -nt, отсутствующие в балтийском[103].
- Праславянский суффикс причастий -no- не используется в балтийских языках.
- Славянские языки сохранили праи.-е. аорист на -s- (сигматический аорист), тогда как в балтийских языках его следов не обнаружено.
- Праславянские количественные числительные большого квантитатива (пять, шесть,… и т. д.) имеют суффикс -tь, в то время как в балтийских языках его следов не обнаружено.
Лексика и семантика
Аргументы сторонников
Семереньи в одном из своих четырнадцати пунктов указывал на значительную общность лексики, не наблюдаемую между другими ветвями индоевропейских языков[35]. Причём, более 200 слов в балтийских и славянских языках являются эксклюзивными схождениями[104].
В свою очередь М. Н. Саенко, предлагая новый метод использования лексикостатистики, утверждает, что в базисной лексике прабалтийского и праславянского наблюдается большое количество общих инноваций, что как полагает автор, может служить веским доводом для подтверждения существования балто-славянского единства[105][106].
Критика
По мнению противников генетического родства, значительную часть этих лексем можно объяснить в качестве сепаратных индоевропейских архаизмов, двухсторонних заимствований или ареальных схождений[107]. Также ими указывается на игнорирование, со стороны их оппонентов, явлений субстрата, которые связаны с этническими смешениями между активно контактировавшими друг с другом в прошлом балтами и славянами[108].
Частные наблюдения
По мнению С. Б. Бернштейна, при исследовании лексики между двумя данными языками необходимо отделять общий индоевропейский лексический фонд от общих лексических новообразований периода контакта между балтами и славянами, чего, в частности, не сделал в своё время Траутман[109].
Аргументы противников
Противники генетического родства, со своей стороны, утверждают о глубоких различиях балтийского и славянского на лексическом и семантическом уровне, обнаруживающим древний характер[110]. В частности, такие важнейшие, по мнению противников, понятия, как «ягнёнок», «яйцо», «бить», «мука́», «живот», «дева», «долина», «дуб», «долбить», «голубь», «господин», «гость», «горн (кузнечный)», выражаются разными словами в балтийских и славянских языках[110].
Remove ads
Примечания
Литература
Ссылки
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads

